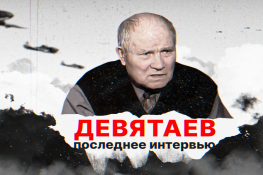«…Я был послан к арабам в качестве «человека со стороны», я не мог думать их мыслями, не мог разделять их веру, но при этом мой долг заключался в том, чтобы вести их, направлять и поддерживать любое арабское движение, выгодное Англии в этой войне. И если я не мог принять их душевный склад, я, по крайней мере, мог утаить свой, двигаясь в их среде без явных трений, являясь не источником разногласий, не критиком, но — невидимым агентом влияния. Да, я был одним из них, но я не буду ни их апологетом, ни их адвокатом.
Сегодня, в своем прежнем европейском одеянии, я мог бы играть роль стороннего наблюдателя, идущего на поводу у запросов нашей чувствительной публики, не чуждой театральности… но честнее фиксировать тогдашние мысли и действия так, как все было на самом деле. То, что выглядит на этих страницах бессмысленной жаждой разрушения или садистской жестокостью, в полевых условиях представлялось неизбежным, по сути, это было не стоящей внимания обыденностью».
Эти слова взяты из начала одной из самых жестких, натуралистичных, но вместе с тем глубоких и блестящих книг нашего столетия — книги, которая сделала своего автора знаменитым. Бернард Шоу назвал ее «одной из лучших описательных книг в истории английской литературы», а Уинстон Черчилль (получивший в 1953 году Нобелевскую премию за вклад в литературу, а не в политику) — «вещью, стоящей в одном ряду с величайшими произведениями, когда-либо написанными на английском языке». Речь идет о «Семи столпах мудрости» Томаса Эдварда Лоуренса, известного больше как Лоуренс Аравийский.
Человек-легенда, ученый-медиевист и переводчик «Одиссеи», во время первой мировой войны он возглавил арабское восстание против турок, став проводником политики Великобритании, стремившейся расколоть Оттоманскую империю, воевавшую на стороне Германии, и позже, наравне с королями и премьер-министрами, принял участие в дележе мира на Версальской конференции. Одиночка, отчасти изменивший мир, он был обречен стать для своих соотечественников живым воплощением «белого человека», воспетого Киплингом. Именно таким он и предстает в исполнении О’Тула в известном голливудском фильме «Лоуренс Аравийский». (Заметим, что это не единственная экранизация его биографии. О нем снято десятка два фильмов и передач в жанре кино- и телерасследований и пр.)
Еще при жизни он превратился в символ, в заложника собственного мифа, в конце концов сломавшего ему жизнь. Его называли «новым Наполеоном» и «Байроном ХХ века». Дважды он вынужденно менял имя, не желая иметь ничего общего с растиражированным газетами и обсуждаемым в великосветских салонах образом «благородного мудрого англичанина, несущего свободу и просвещение диким кочевникам». Он попытался рассказать правду об арабском восстании, написав безжалостные, колючие, полные горечи воспоминания. Сразу же после выхода их по праву признали литературным шедевром. Но и друзья, и враги, выведенные им на страницах книги, никогда не простили ему предельной, почти бесстыдной откровенности этого текста, обнажающего подоплеку событий, внешне подернутых флером «восточной романтики».
И Восток и Запад ждали от него рассказа о благородных бедуинах, превыше всего ценящих свободу, ради которой они, в союзе с самой благородной и свободолюбивой державой Европы, вытеснили из Азии косных жестоких турок. Лоуренс же обнажил политические пружины событий, игру интересов, вспомнил множество эпизодов, участники которых больше всего хотели бы их забыть. При этом его политический анализ и сегодня сохраняет свою актуальность. Что касается стиля, достаточно сказать, что он приводил в восхищение столь рафинированного интеллектуала, как Хорхе Луис Борхес, не раз упоминавшего «Семь столпов мудрости» и в рассказах и в эссе.
Как литератором им восхищались Бернард Шоу и Эзра Паунд, как политиком — Клемансо и Черчилль. Среди его первых биографов были Ричард Олдингтон и Роберт Грейвз, а Уистен Хью Оден, обычно весьма сдержанный, одну из самых восторженных своих рецензий написал на сухую и обстоятельную книгу военного историка Лиддела Харта «Лоуренс Аравийский. Человек и легенда». Редьярд Киплинг, когда друзья пригласили его на обед, где должен был присутствовать Аравиец, как называли Лоуренса в Европе, отменил визит в другой дом, назначенный на тот же вечер, — подобное воспитанный англичанин позволяет себе лишь в экстраординарных ситуациях.
Вслед за Вергилиевым Энеем Лоуренс мог бы повторить: «Учись у меня трудам и доблести. Быть счастливым учись у других». Человек, совершивший поистине невозможное — с горсткой арабских бедуинов отрезавший от Турции, в ту пору великой державы, арабский Восток, — он, едва успев вкусить плоды победы, познал, что всякая победа тут же оборачивается крахом надежд, которые одни и заставляли к ней стремиться. Он мечтал о едином арабском государстве на Востоке. Ему удалось разбить хорошо обученную и вооруженную армию противника, но не удалось убедить союзников выполнить обещания, которые те столь щедро раздавали в разгар войны, когда малейшая случайность могла поколебать шаткое равновесие на фронтах.
Черчилль писал: «Продлись мировая война на год дольше… Лоуренс мог бы вступить в Константинополь во главе объединенных племен Малой Азии и Аравии. Вел же он переговоры с Мустафой Кемалем. Так могла бы осуществиться мечта молодого Наполеона о завоевании Востока: вряд ли Лоуренсу недоставало какого-либо из качеств, необходимых для покорения мира… Но враг капитулировал — и тот осталсяне у дел,нелепый, как доисторический монстр, что выброшен из океанских глубин на берег отступившей волной».
«Князь мятежа», как называли арабы Лоуренса, оказался не нужен.Подобно актеру, который блистательно отыграл свою роль на подмостках и должен уйти, вернуться к серой обыденности, где спешащая из театра публика толкает локтями того, кем только что восхищалась до замирания сердца, он безропотно покинул политическую сцену — но оставил по себе память, пережившую политическую злобу дня, пережившую самую эпоху: оставил одну из самых честных книг о войне, которую читали и будут читать.
* * *
Он родился в 1888 году в семье довольно странной: отец, сэр Роберт Чэпмен, ушел от своей жены к гувернантке старшего сына; пара покинула город, ставший свидетелем семейного скандала, и под фамилией Лоуренс переезжала с одного места на другое, покуда не осела в Оксфорде. Сара Лоуренс, мать Томаса Эдварда, весьма болезненно переживала свое положение женщины, живущей во грехе с чужим мужем, что не помешало ей родить ему пятерых детей. Непрестанно ощущая вину перед Богом, она тем ревностней искала утешения в вере и сделала все, чтобы воспитать детей добрыми христианами. Однако в силу мягкого и впечатлительного характера пламенная мистика романов о святом Граале была ей куда ближе, нежели абстрактная теология. И именно матери Томас Эдвард обязан своим интересом к Средневековью, рыцарям «Круглого стола» и крестовым походам.
Рыцарский кодекс чести стал для него истинной верой, превыше христианства, — сама Церковь, видимо, ассоциировалась у юноши с двусмысленностью его положения внебрачного ребенка, почти по доктору Фрейду. (Может быть, поэтому он потом так легко ладил с людьми, принадлежащими к исламской культуре, и тянулся к ним.) Как бы там ни было, некоторые эпизоды из его юности — в частности, история, когда он бросил школу, завербовался волонтером в артиллерийские части и даже несколько месяцев тянул солдатскую лямку, покуда отец не нашел его и не «выкупил» за 30 фунтов, такова была неустойка за расторжение контракта, — позволяют говорить о перенесенной Лоуренсом психической травме.
* * *
В 1907 году Лоуренс поступает в Колледж Иисуса в Оксфорде. Специализацией он избрал классическую филологию и медиевистику. Студентом Лоуренс был необычным: днем спал, занимаясь по ночам; однокашники рассказывали, что он установил себе норму чтения — пять-шесть книг за ночь, — которую неукоснительно соблюдал. При этом руководствовался он скорее собственными интересами, чем стремлением получить глубокое и систематическое образование, в результате чего в некоторых областях эрудиция его не знала себе равных, об иных же предметах он имел самое смутное представление.
Тем не менее о глубине его знаний свидетельствует тот факт, что выполненный им в конце 20-х годов, когда арабская эпопея осталась позади и отставному полковнику Лоуренсу нужны были деньги, прозаический перевод «Одиссеи» долгое время — вплоть до середины 60-х — считался образцовым. Интересен, кстати, сам выбор текста: возможно, предводитель повстанческой армии, вынужденный смириться с тем, что по возвращении на родину он оказался нужен своим соплеменникам не больше, чем Одиссей женихам, видел параллель между своей судьбой и судьбой греческого скитальца…
Собственно, всю свою жизнь он — сознательно или нет — следовал примеру древних. Два года арабской кампании он провозил с собой в седельной сумке «Смерть Артура» Томаса Мэлори — явно подражаяАлександру Македонскому, который не расставался в походах с «Илиадой» и даже клал свиток с поэмой себе в изголовье… «Семь столпов мудрости» писались с оглядкой на Цезаря. Лоуренс сознавал, что он создает современный вариант «Записок о галльской войне»: воспоминания полководца о военной кампании…
Темой диссертации Лоуренс избрал архитектурные особенности замков и крепостей, воздвигнутых крестоносцами на территории Сирии, и твердо решил ознакомиться с предметом своих научных штудий на месте.
Сирия — как почти весь Арабский Восток в ту пору — находилась под властью турок, отнюдь не поощрявших интереса европейцев к чему бы то ни было на территории Оттоманской империи, в том числе и к древним развалинам. И, готовясь к своему первому путешествию, Лоуренс резонно позаботился не только о том, чтобы перерыть горы литературы, но и о том, чтобы научиться без промаха стрелять из револьвера с обеих рук. Трудно сказать, насколько в Сирии юноше пригодилось знание истории крестовых походов, но владение оружием спасло ему жизнь.
Странствуя в горах, он столкнулся с турецким солдатом, не без основания рассудившим, что белый человек в этих местах может быть только шпионом и никем больше, а потому лучше его убить, от греха подальше. Бравый вояка снял с плеча винтовку, прицелился, выстрелил… и промахнулся. Лоуренс выхватил револьвер, однако, движимый состраданием, решил не убивать противника, а лишь слегка ранить — и метким выстрелом снес турку фалангу пальца. От боли тот выронил ружье, после чего Лоуренс, как истинный рыцарь, подошел к нему и предложил свою помощь.
Перевязав платком кровоточащую руку турка, он снискал его глубочайшее уважение — тот даже отдал ему своего ослика, состоявшего, как и его владелец, на пищевом довольствии в оттоманской армии, дабы благородный юноша легко мог спуститься с гор в долину, где его ждали друзья-сирийцы…
Зимой 1911 года Д. Дж. Хогарт, куратор музея Ашмола, предложил Лоуренсу место ассистента в экспедиции, которая направлялась на раскопки хеттского города Кархемыша, стоявшего на реке Евфрат, на границе Турции и Сирии.
Археология в ту эпоху была отнюдь не кабинетной наукой. Руководитель раскопок должен был совмещать в себе качества ученого, организатора и авантюриста. Так, Уоллес Бадж, один из известнейших египтологов — едва ли не половина египетских экспонатов Британского музея добыта именно его стараниями, а на издания египетских текстов под редакцией Баджа ссылаются и по сей день, — по праву мог бы носить титул гениального контрабандиста, ибо способы, которыми он вывозил из Египта древности, вопреки всем запретам и противодействию местных властей, достойны восхищения.
Хогарт особо настоял, чтобы юноша занялся арабским языком: каких-то разговорных выражений Лоуренс нахватался еще во время своего первого путешествия по Сирии, однако этого было недостаточно, чтобы руководить рабочими, нанятыми из числа окрестных жителей. Прежде чем выехать непосредственно к месту раскопок, несколько месяцев Лоуренс провел в школе Американской миссии в Джебали, около Бейрута, где изучал арабский.
Позже, после выхода «Семи столпов мудрости», недоброжелатели обвиняли его в том, что за десять лет, проведенных среди арабов — сперва на раскопках, а потом в лагере повстанцев, — он «привык думать по-арабски», и его английский язык оказался непоправимо испорчен, превратившись в арабский, задрапированный английскими словами. Сам Лоуренс в разговоре с Робертом Грейвзом обмолвился, что знание им арабского сильно преувеличено: за время работы в археологических экспедициях он «на слух» выучил около четырех тысяч слов — для арабского, богатого лексикой, весьма немного, — да и те по большей части были связаны со специфическими нуждами раскопок, так что, оказавшись среди мятежников, он поначалу с трудом мог поддерживать беседу.
К концу восстания он знал примерно двенадцать тысяч слов, при этом практически не умея читать на языке. Характерно, что, когда после войны издатель Джонатан Кейп предолжил Лоуренсу сделать перевод «Тысячи и одной ночи», речь шла о переводе не с арабского, а с французского.
Говоря с капитаном Лидделом Хартом, одним из самых обстоятельных его биографов, Лоуренс заметил, что не знал ни одного англичанина, который бы владел арабским настолько хорошо, чтобы, оказавшись на Востоке, хотя бы первые пять минут беседы мог сойти за уроженца арабского мира, — и сам он отнюдь не был исключением.
Но при этом Лоуренс обладал неким врожденным обаянием и умением ладить с людьми, которое для местных жителей значило гораздо больше совершенного владения языком. Как-то Лоуренс приехал в Джебали в сопровождении одного из арабов, нанятых на время раскопок. На вопрос, как Лоуренсу так хорошо удается ладить с местными, араб ответил: «Он просто один из нас: все, что умеем и знаем мы, умеет и знает и он, причем порой гораздо лучше нас».
Иные поступки Лоуренса вызывали непонимание у его европейских коллег. Он мог прервать размеренную рутину работ и полдня обсуждать со своими рабочими какие-то тонкости их родовых взаимоотношений, старые легенды или просто местные сплетни. На замечания руководителя раскопок Д. Дж. Хогарта он лишь отшучивался и пожимал плечами, а через неделю тот обнаруживал, что за это время рабочие у Лоуренса «необъяснимым образом» сделали то, на что надо как минимум дней двадцать. Он разрешил арабам стрелять в воздух из ружей, если в раскопе обнаруживалось нечто действительно ценное или интересное. «Арабы — как дети, им нравится стрелять», — объяснял Лоуренс. После этого количество находок и темп работ на его участке резко возросли.
“Моя бедность, – скажет впоследствии Лоуренс, – позволила мне изучить тех, от которых богатый путешественник отгорожен своими деньгами и спутниками. Я окунулся в самую гущу масс, воспользовавшись проявлением ко мне их симпатий”. Благодаря этому Лоуренс усвоил то, что в дальнейшем являлось “секретом” его силы. “Среди арабов, — говорил он, — не было ни традиционных, ни природных различий, за исключением неограниченной власти, предоставляемой знаменитому шейху.
Арабы говорили мне, что ни один человек, несмотря на его достоинства, не смог бы быть их вождем, если бы он не ел такой же пищи, как и они, не носил бы их одежды и не жил бы одинаковой с ними жизнью”. Именно благодаря полному отказу от условностей культурной жизни, который другие европейцы рассматривали бы как унижение, Лоуренс сделался “натурализованным” арабом, вместо того чтобы оставаться просто европейским туристом в Аравии. Ему помогло его безразличие к окружающей обстановке, так несвойственное европейцам и в особенности англичанам. Дело облегчалось также его страстью к бродяжничеству.
Небольшого роста, сухой, гладко выбритый, блондин, Лоуренс, конечно, весьма мало походил на араба. Все же последние принимали его за одного из своих. Он говорил, что в Северной Сирии, где в результате расовых смешений имеется много светловолосых туземцев. говорящих лишь на ломаном арабском языке, это не было особенно трудно: “Я никогда не мог сойти за араба, но меня легко принимали за одного из туземцев, говорящих по-арабски”.
Вот описание, данное Лоуренсу сэром Лиделл-Гартом: “Во внешности Лоуренса имеется странная двойственность. При случайном взгляде на него, благодаря малому росту, обветренному лицу и скучающему виду, который часто служит ему весьма удобной маской, когда он хочет отойти на задний план, его легко можно не заметить. Однако при более пристальном рассмотрении он поражает размерами своей головы с белокурыми во лосами над высоким лбом и странно проницательными голубыми глазами. Общее выражение, когда лицо спокойно, является скорее суровым, но суровость исчезает, когда Лоуренс говорит или улыбается: у него удивительно приятный голос и обворожительная улыбка. Пища его не интересует, и когда Лоуренс один, он довольствуется одним блюдом в день и притом самым простым. Он не пьет и не курит”.
Параллельно с работой в археологической экспедиции, Лоуренс работал на военную разведку Великобритании, которая вела наблюдение за строительством немцами железной дороги Берлин — Багдад, и раскопки на археологических площадках служили Лоуренсу надежным прикрытием. Считалось, что археологическую партию, в которую входил Лоуренс, финансировал Британский музей. Она занималась археологическими раскопками в Месопотамии (современный Ирак). Во время раскопок тайный агент, вооруженный фотокамерой, все время находился возле железной дороги.
По возвращении в Англию Лоуренс сдал Британскому музею, курировавшему работы, научный отчет об экспедиции. В 1915 году тот был опубликован под названием «Синайская пустыня» и снискал Лоуренсу репутацию серьезного археолога.
* * *
Интересно, что Лоуренс, еще в школе увлекшийся фотографией, решил не тратить, как было принято до него, массу бумаги и времени на фиксацию обстоятельств находки того или иного предмета и его описание, а начал применять фотосъемку, что казалось нарушением всех канонов археологии; лишь со временем ученые убедились, насколько это облегчает работу. Однако в той ситуации Лоуренсом скорее руководила страсть к фотографии как таковой, а не стремление внести новое в методику полевой археологии.
 Томас Эдвард Лоурнес, известный также как «Лоурнес Аравийский», возглавил восстание арабских племен против Османского владычества на Аравийском полуострове в период 1 Мировой войны 1914-1918 гг. С традиционным арабским кинжалом «джамбия» (фотография 1918 или 1919 гг.).
Томас Эдвард Лоурнес, известный также как «Лоурнес Аравийский», возглавил восстание арабских племен против Османского владычества на Аравийском полуострове в период 1 Мировой войны 1914-1918 гг. С традиционным арабским кинжалом «джамбия» (фотография 1918 или 1919 гг.).
По возвращении Лоуренса в Англию молодым археологом, знавшим арабский язык и не один год проведшим в Сирии и Палестине, заинтересовалась военная разведка. Шла война, правительству и армии Его Величества требовались специалисты по Арабскому Востоку: Турция, под чьей властью находились эти территории, воевала на стороне Германии. Так волею судьбы (и благодаря рекомендации Д. Дж. Хогарта, сменившего роль ученого на роль военнно-политического консультанта) Лоуренс стал сотрудником MI-I, откомандированным в Каир.
К тому времени арабские офицеры, служившие в турецкой армии, уже образовали тайное общество, целью которого было отделение арабов от империи. После начала войны они обратились к шерифу Мекки Хусейну с призывом возглавить их движения и, воспользовавшись благоприятным моментом, поднять восстание. Основной силой восстания должна была стать арабская дивизия, которую турки готовили к отправке на фронт. Предполагалось, что командовать ею будет сын Хусейна, Фейсал. Он и должен был поднять знамя мятежа — багровое знамя шерифа. Все было готово, однако турки заподозрили неладное: был раскрыт заговор среди сирийских офицеров, и высокая комиссия — сам Энвер-паша и Джемаль — решила ознакомиться с обстановкой на месте, для чего они приехали в Медину, где была расквартирована арабская дивизия.
Дальнейшее развитие событий предопределялось восточными представлениями о чести. Фейсал, лидер готовящегося восстания, и два верховных правителя империи, из-под власти которой повстанцы хотят освободиться, устраивают смотр армии, что должна выступить против турок. Смотр происходит за городскими воротами. Диктаторы сумрачно наблюдают, как маршируют полки, взбивая пыль, и как гарцует арабская конница, а к Фейсалу подходит один из офицеров и спрашивает: «Господин, мы убьем их сейчас?» На что Фейсал отвечает… запретом.
Убийство турок было бы нарушением законов гостеприимства. Офицеры настаивают. Фейсалу приходится в буквальном смысле слова умолять их ради его чести сохранить жизнь врагам, лишь совсем недавно заставившим его присутствовать на казни сирийских заговорщиков, многие из которых были его личными друзьями. Извинившись, Фейсал резко обрывает смотр и увозит высокопоставленных гостей в Медину. Прекрасно все понявшие, Энвер и Джемаль вводят в Медину турецкие части. Тогда Хусейн и Фейсал, опираясь на бедуинов, поднимают восстание.
Лоуренс убедился, что арабам не хватает лидера, способного стать военным вождем объединенных племен. Шериф Хусейн был политиком, но не военачальником. Его сын Абдулла, в котором многие хотели бы видеть реального вождя восставших, производил впечатление человека необычайно талантливого, дальновидного — но слишком хитрого, чтобы ему можно было доверять всерьез. Не оправдали надежд англичан и два других возможных претендента на роль лидера: сводный брат Абдуллы — Зейд или еще один сын шерифа — Али.
Действуя на свой страх и риск, Лоуренс преступает рамки данных ему полномочий и решает встретиться с Фейсалом. Если верить «Семи столпам мудрости», именно эта встреча и предопределила весь дальнейший ход арабского восстания. В Фейсале Лоуренс увидел того, кого искал, а юный арабский принц проникся уважением и доверием к человеку, который на заданный при знакомстве вежливый вопрос, понравился ли ему лагерь восставших, резко ответил: «Да, но он слишком далеко от Дамаска». Обретение контроля над Дамаском означало победу восстания.
По возвращении Лоуренс представил начальству рапорт о положении дел в Хиджазе, указав, что, если обеспечить восставших боеприпасами, вооружением и откомандировать к ним компетентных советников, повстанцы могут стать серьезной силой. Однако, как выяснилось, поиск и подготовка офицеров, способных сыграть роль военных консультантов при Фейсале, займет не один месяц, и до той поры полковник Клейтон решил направить в лагерь повстанцев Лоуренса — всего лишь в качестве координатора, который помог бы арабам поддерживать контакт с англичанами. Так оксфордский археолог оказался одним из тех, от кого зависела судьба мятежа.
«Мы были армией, предоставленной самой себе, без парадов и показухи, мы служили свободе, свободе, которая для каждого живущего на земле не менее дорога, чем «Символ веры»; цель эта была для нас столь желанна, что поглотила нас без остатка, а надежда — столь запредельна, что наши первоначальные амбиции померкли в ее славе.
С течением времени потребность сражаться за идеал переросла в одержимость, не ведающую вопросов: она гнала нас железной шпорой, заставляя отбросить сомнения прочь. Волей-неволей это стало верой. Мы продали себя ей в рабство — скованные цепью, подобно каторжникам, со всем, что было в нас хорошего и плохого, мы превратились в служителей святого идеала. Оказавшийся в положении раба мыслит иначе, ведь он лишен чего бы то ни было в этом мире. Происходящее в его душе способно внушить ужас и отвращение. Мы же отдали не только тело, но и душу всеподчиняющей жажде победы. Воздаянием за этот выбор была опустошенность: отринув мораль, волю, ответственность, мы стали подобны сухой листве на ветру».
Не будучи кадровым военным, он, вырабатывая план восстания, следовал не навыкам, прививаемым в военном училище, а собственной интуиции и воспоминанию о прочитанных когда-то двух десятках книг, не столько по военному делу, сколько по философии войны: Клаузевиц и тому подобное. В «Семи столпах мудрости» он вспоминает, как, свалившись с приступом дизентерии, лежал в палатке, бредил, а приходя в сознание, пытался сформулировать стратегию предстоящей кампании, размышляя о ней в терминах… Платона и Аристотеля на хорошем греческом. В самой абсурдности этого есть что-то на редкость убедительное.
В течение года Лоуренсу практически удалось отсечь и изолировать друг от друга турецкие гарнизоны, размещенные в арабских городах. Дальнейший успех зависел от того, смогут ли повстанцы накануне наступления союзников в Азии отрезать Дамаск — основную базу турок — от путей снабжения. Генерал Бартоломью, разрабатывавший Дамасскую операцию, определил положение одной фразой: «Если Лоуренс сможет сделать это за день до наступления, мы победили».
Арабы вышли к Деръе — станции, которая контролировала последнюю железнодорожную ветку, связывающую Дамаск с внутренней территорией страны, — за сорок восемь часов до наступления союзников.
Теперь необходимо было взорвать железнодорожное полотно на глазах у хорошо вооруженного и многочисленного гарнизона, расквартированного в городе. И вот когда повстанцы подошли к станции почти вплотную, с ее аэродрома поднялось в воздух восемь немецких бомбардировщиков. Армия Фейсалапредставляла собой на равнине почти идеальную мишень. Подрывники еще только закладывали заряды, когда стали падать первые бомбы. И тут в небе появился одинокий английский самолет.
* * *
Англичане предоставили в помощь восставшим несколько самолетов для разведки и поддержки с воздуха. Услышав далекие разрывы бомб, один из английских пилотов — лейтенант Джунор, не ожидая приказа, поднял легкий истребитель и полетел к Деръе. Оценив ситуацию, он направил самолет прямо наперерез немецкой эскадрилье. У летчиков времен первой мировой войны были свои представления о чести. Увидев авиатора, бросающего им вызов, немецкие пилоты утратили всякий интерес к наземным целям и бросились преследовать самолетик Джунора. Им казалось, что сбить его — ведь их машины были намного современней — не составит особого труда.
Повстанцы получили шанс: подрывники успели закончить свою работу, а сконцентрированная в одном месте армия (собственно говоря — несколько тысяч человек) рассеялась на мелкие группы, двинувшиеся в различных направлениях. Английский же летчик, сделав «круг почета» с восемью немецкими самолетами на хвосте, ухитрился спастись, приземлив свою изрешеченную пулями машину поблизости от отряда подрывников Лоуренса, в распоряжении которых был автомобиль, и на автомобиле вся группа вырвалась из зоны огня…
Кто-то из военных историков назвал арабскую кампанию «последней романтической войной» в истории человечества. Благородные кочевники на верблюдах, верные идеалам свободы, являли собой разительный контраст с армиями в хаки, засевшими в окопах и поливающими друг друга артиллерийским огнем. Но определение «романтическая» в приложении к той войне в пустыне имеет еще один, более глубокий смысл: это была война одиночек против государственной машины.
На одной чаше весов лежали регулярность поставок продовольствия и амуниции, согласованность железнодорожного расписания и бюрократическое оформление грузов, на другой — своеволие небольших групп кочевников, вдруг появляющихся из пустыни и разрушающих мосты и железнодорожное полотно, телефонные коммуникации и телеграфные линии, или своеволие молодого лейтенанта, который поднимает самолет в воздух, не дожидаясь приказа. Кто знает, не он ли на самом деле нанес сокрушительное поражение Оттоманской империи в первой мировой войне?
Однако у «романтики» той войны была и оборотная сторона: «Пути бедуинов достаточно тяжки даже для тех, кто знаком с ними сызмальства, но для чужаков они ужасны; это смерть при жизни, — писал Лоуренс. — Вечная битва нашего существования вырвала из душ всякое беспокойство о жизни — собственной ли, окружающих ли… Каждый день смерть уносила еще одного; оставшиеся знали, что они — лишь наделенные способностью чувствовать марионетки на сцене Божьей; кукловод же наш был поистине безжалостен, безжалостен до самого последнего момента, покуда мы еще могли переставлять истертые в кровь ноги, двигаясь все дальше и дальше.
Выбившиеся из сил завидовали тем, кто устал настолько, чтобы умереть; успех казался столь далеким, а провал — столь близким и неизбежным, что смерть сулила мгновенное освобождение от всех трудов. Полнейшая апатия сменялась крайним напряжением нервов: мы жили или на спаде, или на пике всех чувств. Измотанность, выжатость была для нас подобна яду; она заставляла нас думать лишь о насущном, отбросив саму мысль о зле, которое мы несем тем, кто столкнется с нами, или зле, которое мы претерпеваем: физические чувства на поверку оказались ничего не стоящей мгновенной пеной.
Порывы жестокости, извращения, похоти проносились по поверхности, не затрагивая сущности; моральные законы, которые раз за разом попирались в силу нелепого стечения обстоятельств, казались лишь пустым звуком… Наши руки постоянно были в крови: мы получили своего рода индульгенцию. Ранить, убивать казалось лишь преходящей, мгновенной болью, ибо сама наша жизнь была мгновением и не ведала к нам жалости… Мы жили одним днем, ради этого дня мы умирали…»
Все кончилось 1 октября 1918 года: повстанцы заняли Дамаск. Турция утратила контроль над Арабским Востоком.
Лоуренс был отозван в Англию, однако вскоре его включают в состав британской делегации на Версальской конференции. Перед ним открывается блестящая политическая карьера. Но дипломатом Лоуренс никогда не был. Трагедия его в том, что он пытался быть рыцарем в эпоху динамита. Он весьма своеобразно (с точки зрения английского правительства) понял свою роль на конференции. Сражаясь бок о бок с арабами, он сражался во имя создания единого арабского государства. Однако появление такового на Востоке вовсе не входило в планы великих держав.
Англичане давали арабам весьма расплывчатые обещания, однако еще в 1915 году заключили с Францией ряд соглашений, касающихся раздела мира после войны. И арабскому государству места там вовсе не было. Лоуренс случайно узнал об этих планах союзников еще в середине арабской кампании и не без труда справился с обрушившимся на него потрясением: ведь представители английского правительства, посылая его к восставшим, заявляли ему совсем иное.
Фактически его и арабов предали и цинично использовали в чужой игре. Правда, к концу войны Англия стала побаиваться чрезмерного усиления Франции и готова была предпринять некоторые шаги, чтобы этого не допустить. В частности, поднять вопрос о том, чтобы некоторые арабские территории получили независимость. Вернее — номинально независимое правительство, на самом деле являющееся марионеткой в руках европейских держав. Желательно — Великобритании. Поэтому Ллойд Джордж даже прислал Фейсалу приглашение на конференцию. Однако в официальный список участников Фейсал включен не был. Об этом он узнал только в Париже, когда его проинформировали от имени оргкомитета, что «правительство Франции сожалеет, однако арабская делегация не получила представительства на конференции, ибо великие державы покуда не заявили об официальном признании правительства повстанцев». К вечеру того же дня «недоразумение», правда, разрешилось.
Посредником между арабами и союзниками вновь выступил Лоуренс. Через свои связи — генерала Алленби и друзей в министерстве иностранных дел — он добился, что вечером Фейсал получил официальное подтверждение от Ллойд Джорджа: арабы могут иметь на конференции двух представителей.
С этого момента Лоуренс фактически присутствовал на конференции не как член английской делегации, но как личный представитель и переводчик Фейсала. На официальные мероприятия он являлся не в мундире полковника британской армии, как того требовал протокол, а в арабском одеянии, жил в том крыле гостиницы, что было отведено Фейсалу, и помогал ему составлять речи. Даже на прием в Букингемском дворце, устроенный Георгом V в честь Фейсала во время перерыва в работе конференции, Лоуренс, демонстративно нарушая этикет, пришел в арабском платье.
На вопрос короля, что послужило тому причиной, он ответил: «Ваше Величество, волею обстоятельств я оказался вассалом двух господ: Вас и короля Фейсала. И честь велит мне вызывать недовольство того из них, кто сильнее, а не кто слабее. Поэтому я предпочел задеть Ваши чувства, а не чувства короля Фейсала, который привык видеть меня именно в этих одеждах».
Все эти поступки Лоуренса принесли ему скандальную известность — но не принесли арабам желаемого решения. Все, что они получили, — это королевство Сирия под протекторатом Франции. На трон королевства был возведен Фейсал.
* * *
Лоуренс воспринял такое решение едва ли не как личное оскорбление. Он испросил у короля Георга аудиенции, на которой вернул награды, врученные ему английским правительством, заявив при этом, что «стыдится той роли, за которую получил свои ордена: от имени Англии он давал арабам известные обещания, и эти обещания выполнены не были, так что теперь ему, возможно, придется сражаться против своих соотечественников — при таких условиях он не считает возможным носить британские ордена».
Любопытно, что даже после подобного жеста Лоуренсу не был закрыт путь к официальным должностям. После провала его усилий на Версальской конференции он около года провел в Оксфорде, преподавая в колледже, но в 1921-м Уинстон Черчилль приглашает его работать под своим началом на Ближнем Востоке. Перед Лоуренсом открывались блестящие карьерные перспективы. Однако, сделав все необходимое, чтобы на Востоке установился мир, он подает в отставку.
Бернард Шоу со свойственным ему сарказмом заметил по этому поводу, что английское правительство вовсе не проявило себя неблагодарным по отношению к Лоуренсу. Оно предложило ему на выбор несколько назначений, ни одно из которых того не устраивало: после Версальской конференции он не хотел иметь никаких дел с родным государством. Тогда правительство предоставило ему возможность «самому обеспечить себя средствами к существованию, написав книгу обо всем, свидетелем чему он был, и безбедно жить на доходы с ее продажи. Ныне так делаются все состояния отставных министров…».
Лоуренс действительно сел писать книгу. Но он отказывался «делать деньги на крови арабов и турок», так же как и на памяти друзей, с которыми бок о бок воевал в пустыне.
Выйдя в отставку, Лоуренс скоро обнаружил, что ему практически не на что жить. Никаких сбережений у него не было. (Это тем более показательно, что за время арабской кампании через его руки прошло около полумиллиона фунтов стерлингов: он имел право по своему усмотрению распоряжаться специальным фондом, выделенным английским правительством для поддержки восставших. Кстати, издержки англичан на ближневосточную кампанию весьма ярко говорят о том, что именно Лоуренс сделал для Англии: все операции на ближневосточном театре во время первой мировой войны обошлись английским налогоплательщикам в 11 миллионов фунтов, а введение английских войск в Ирак во время восстания 1921 года — вывода которых из страны и добилась комиссия Черчилля — в 60 миллионов фунтов.)
Арабы вовсе не спешили выразить Лоуренсу свою признательность и обеспечить какой-нибудь почетной пенсией. Они ограничилась тем, что поднесли ему золотой кинжал — знак власти шерифа. Некоторое время герой арабской войны вел в прямом смысле полуголодное существование. Безденежье и растущее отвращение к собственной славе заставили его под именем Джеймса Хьюма Росса завербоваться в Королевские воздушные силы. ВВС казались Лоуренсу неким мужским братством избранных. Реальность расставила все по местам.
Начались дни обычной армейской муштры, к которой, в силу своего взрывного характера, Лоуренс менее всего был приспособлен. Поэтому вскоре он близко познакомился с полным набором дисциплинарных мер, предусматриваемых в британской армии для нерадивых военнослужащих. В частности, с тем, что значит провести неделю на уборке отхожих мест. Дополнительное напряжение — и внешнее и внутреннее — в казарменную жизнь Лоуренса привносили любого рода напоминания о прежнем его положении.
Так, вернувшись вечером после грязной работы, он мог извлечь из кармана кителя пропахшее экскрементами письмо, полученное с утренней почтой, но еще не прочитанное, и обнаружить, что его приглашают на должность главного редактора в один из самых высоколобых английских литературных журналов — «Бель-леттр». Или из блокнота нерадивого курсанта, стоящего навытяжку перед орущим на него лейтенантом, мог выпасть лист бумаги: верительная грамота, наделяющая предъявителя, полковника Лоуренса, правами полномочного представителя Великобритании на арабских территориях.
Лоуренсу не удалось долго скрывать свое подлинное имя. Вскоре журналисты каким-то образом докопались, что герой войны служит простым курсантом Королевских воздушных сил, а начальство Лоуренса узнало, что тот сочиняет книгу про армию, где военные предстают отнюдь не в лучшем свете, — и разгорелся скандал. Вызванный для объяснений, Лоуренс теряет над собой контроль. Армейский психиатр признает его ограниченно вменяемым, и Лоуренса с позором изгоняют из ВВС.
Когда вся эта история докатилась до Бернарда Шоу, Лоуренсу симпатизировавшего и даже взявшегося редактировать оконченные к этому времени «Семь столпов мудрости», тот отправил «Россу» весьма резкое письмо: «Подобно всем героям — и, должен прибавить, всем идиотам, — Вы чересчур самоуверенны… Вы должны были вести себя иначе, а теперь — теперь бесполезно отрицать, что Лоуренс — это Ваше подлинное имя. Это Вас не спасет… Вы — Лоуренс и будете им до конца Ваших дней и даже после смерти — вплоть до конца того периода, который мы называем «новейшей историей».
Лоуренс крайне болезненно воспринял все происшедшее. В армии он искал забвения своего «я», некоего освобождения от груза ответственности и памяти. Жестокость и лишения, через которые он прошел во время войны в пустыне, подорвали его психику: фактически он находился на грани сумасшествия. В нем видели героя, гениального полководца, а он ненавидел свою роль в истории, считая себя предателем, ибо то единое арабское государство, ради которого сражались его друзья-повстанцы, так и не было создано: восстание стало разменной монетой в политике великих держав.
Образ полководца, который ему усиленно навязывала пресса, претил Лоуренсу еще больше; его опыт резко отличался от опыта военных гениев вроде генерала Людендорфа. Те лишь отдавали приказы и редко видели истинные последствия их выполнения: цифры военных потерь, ложащиеся на штабные столы, не дают представления о перекошенных болью лицах убитых, окопных вшах и тому подобном.
Лоуренс же даже самые жестокие вещи вынужден был совершать своими руками. Он лично пускал под откос поезда, и на него падали окровавленные куски тел, поднятые в воздух взрывом, — и он сам приводил в исполнение смертные приговоры в повстанческой армии, ибо никто из арабов не решался этого сделать, опасаясь кровной мести родственников, хотя порой то был единственный способ предотвратить предательство, измену или малодушие. И вот теперь он хотел спастись от воспоминаний, прикрывшись личиной чужого имени, затерявшись в безликости армейских рядов сгинуть, раствориться.
Вскоре после увольнения из авиации он — под фамилией Шоу — вступает добровольцем в танковый корпус. Позже он признается, что это было одной из величайших ошибок в его жизни. Сослуживцы по корпусу оказались людьми на редкость ограниченными. Да, Лоуренс хотел причаститься простоты, прозы жизни — но не до такой же степени! А тут, когда, мучимый ночными кошмарами, навеянными воспоминаниями о войне, он стал кричать и перебудил всю казарму, ему просто-напросто устроили «темную».
«Лицо разбито, сломана нога, когда-то поврежденная на войне… Кажется, меня били четверо… Унизительно — и очень больно», — пишет он старым друзьям.
Единственной отдушиной для него стала безумная езда на мотоцикле: ощущение риска напоминало ему, что он еще жив.
«Все это — сумасшествие; порой я задумываюсь, до какой степени я безумен и не станет ли психушка моим следующим пристанищем…» — проговаривается он в одном из писем.
* * *
Друзья — Бернард Шоу, Тренчард и другие — пытаются помочь Лоуренсу. Так, Шоу пишет резкое письмо премьер-министру, указывая, что ситуация, когда Лоуренс вынужден служить в качестве наемного солдата, позор для страны. Прежде чем отправить письмо, он показывает его Д. Дж. Хогарту, знавшему Лоуренса еще во времена Кархемиша. Хогарт с грустью констатирует, что, по его мнению, обращение Шоу останется без результата: «В случае Лоуренса проблема не в том, чтобы обеспечить его достойным жалованьем. Проблема в его образе жизни. Я не могу представить правительственный пост, который премьер-министр мог бы предложить Лоуренсу, а тот — согласился бы принять… Он тут же начнет говорить о моральной проституции и — отставке… Лоуренс — человек не совсем нормальный, и поэтому что-нибудь для него сделать чрезвычайно сложно…»
В редкие моменты, когда депрессия отступала, Лоуренс мог иронизировать по поводу своего положения: «Всем я не ко двору. Лейбористы величают меня не иначе как «шпион империализма» и прилюдно сжигают мое чучело на костре, консерваторы видят во мне большевика, а лорд Т. утверждает, что я — фигляр, озабоченный саморекламой…»
В конце концов усилия друзей дали свои плоды, и Лоуренсу разрешают вернуться в авиацию — в качестве техника, ответственного за предполетную подготовку машин. Это положение его вполне устраивает.
К тому времени книга воспоминаний «Семь столпов мудрости» закончена. Блестяще написанная, она была необычайно далека от жанра военных мемуаров, всегда пользовавшегося в Англии популярностью.Несмотря на обилие стратегических выкладок, точных данных о передвижениях войск и тому подобных материалов, представленных на страницах этого сочинения, «Семь столпов мудрости… » читались как исповедь интеллектуала-одиночки, не желающего принимать на веру и разделять установки общества:
«Мои попытки жить все эти годы «в арабском платье», имитируя мышление араба, оторвали меня от моего английского «я» и позволили увидеть Запад, его условности иным взглядом: тот мир рассыпался для меня прахом. Но вместе с тем искренне переродиться в араба я не мог, это было притворством, и только. Легко лишить человека веры, обратить его в веру иную — тяжело. Я сбросил старую кожу — но не оделся новой, я сделался подобен гробу Магомета из нашей легенды; отсюда — чувство всепоглощающего одиночества и презрения, нет, не к людям, но ко всем их деяниям… Иногда «новое» и «старое» «я» затевают в пустоте диалог; полагаю, в такие моменты безумие подступает совсем близко, оно все время маячит рядом с тем, кто видит мир сквозь покровы двух обычаев, двух образований, двух обществ».
Несмотря на горечь, которой исполнены многие строки лоуренсовских воспоминаний, для поколения «Смерти героя» его книга была подобна глотку надежды. Она оказалась способной «реабилитировать» сознание целой нации, надломленное пониманием абсолютной бессмысленности мировой войны: Лоуренс невольно доказывал, что пусть на самой периферии, но это была война за свободу — хотя бы одного народа.
Больше того, судьба Лоуренса служила примером того, что воля одиночки способна изменить действительность вплоть до перекройки политических границ на карте мира. А проблема соотношения индивида и общества в «век толп» мучительно занимала в ту пору европейских интеллектуалов. Неудивительно, что горячими почитателями Аравийца оказались столь разные люди, как Уистен Хью Оден и Роберт Грейвз, Киплинг и Эзра Паунд, — именно те, кто предлагал свои решения этой дилеммы.
Лоуренс издал «Семь столпов мудрости» исключительно для друзей, в количестве 500 экземпляров, и разорился на этом издании, хотя воспоминания об арабской кампании могли бы принести ему состояние. Достаточно сказать, что через неделю после выхода книги в «Таймс» стали печататься объявления, авторы которыхготовы были платить 5 фунтов в неделю (для сравнения: за перевод «Одиссеи» Лоуренс получил 800 фунтов) за возможность ознакомиться с таинственной публикацией. Книга распространялась по подписке, по 30 фунтов за экземпляр, притом что стоил тот намного дороже: Лоуренс заказал художникам портреты участников событий, и, естественно, они были воспроизведены в цвете, книга печаталась вручную, на специальной бумаге, а каждый экземпляр одевался в свой, неповторимый переплет.
Как заметил Бернард Шоу, Лоуренс сделал все, чтобы потратить на это издание последние оставшиеся у него средства, проявив себя человеком, абсолютно неприспособленным к коммерческой цивилизации. С другой стороны, возможно, что таким образом он пытался разрешить свои психологические проблемы, связанные с «чувством вины перед арабами».
Параллельно с «Семью столпами» выходят воспоминания Лоуэлла Томаса «С Лоуренсом в Аравии» и «сокращенная», суходокументальная версия воспоминаний самого Лоуренса, на которой все же настоял издатель, — «Мятеж в пустыне». Аравиец вновь оказывается в центре внимания публики. Друзья — особенно те, кто, как Черчилль, стоял близ вершин власти, — понимая, что эта ситуация может привести Лоуренса к очередному психологическому срыву и скандалу, поспешили «убрать» его из Англии, отправив служить авиационным техником в далекий индийский гарнизон близ Карачи.
Публикация «Семи столпов» не избавила Лоуренса от того, что сам он называл «чернильной лихорадкой в крови»; в Индии он принимается за новую книгу — на этот раз за роман из жизни ВВС. Книга, получившая название «Орлянка», увидела свет лишь в 1955 году: прежде чем передать роман издателю, Лоуренс послал его для «ознакомления» Тренчарду, столь много сделавшему для того, чтобы жизнь Аравийца наладилась; Тренчард счел, что «роман слишком неприглядно рисует быт военных летчиков и его публикация могла бы нанести ущерб престижу британских воздушных сил».
В мае 1928 года Лоуренса переводят из Карачи в Мираншу — маленький гарнизон почти у самой границы с Афганистаном. Нет ничего удивительного в том, что, когда зимой в Афганистане вспыхивает восстание, газетчики, раскопавшие информацию о пребывании Аравийца в Индии, на границе с охваченной мятежом страной, спешат приписать восстание делу его рук.
Лоуренса тут же отзывают в Англию, однако проделано это было столь неуклюже, что лишь подогрело подозрения. Пребывание Лоуренса в Лондоне превратилось в настоящий ад — за ним постоянно следили репортеры, он чувствовал себя дичью, со всех сторон обложенной охотниками. Он лично обзванивает редакторов крупных газет, требуя снять унизительную осаду. Наконец, опять же стараниями Тренчарда, его переводят в Дорсет, на побережье, где расквартирована эскадрилья гидросамолетов.
Новое назначение открывает Лоуренсу некоторый простор для деятельности. Он предлагает ряд технических усовершенствований для торпедных катеров, участвует в организации воздушных парадов, «с его подачи» вносятся немаловажные изменения в инструкции, касающиеся управления «летающими лодками», чей экипаж состоял наполовину из моряков, наполовину из летчиков: по представлении специального рапорта, подготовленного Лоуренсом, было принято решение о том, что командование в воздухе передается пилоту, независимо от его служебного ранга.
С головой уйдя в работу, Лоуренс перестает болезненно реагировать на всякое упоминание своего имени. Так, известие о том, что социалисты устроили публичное сожжение чучела Аравийца — «архишпиона империализма», — вызывает у него лишь приступ веселья. Он занят новой книгой — историей своего поколения, собираясь назвать ее либо «Листва на ветру», либо «Исповедание веры». Он даже вполне счастлив. Во всяком случае, он обрел что-то вроде покоя. Лишь порой он выводит из гаража мощный мотоцикл — подарок Бернарда Шоу — и на бешеной скорости устремляется навстречу ветру. Друзья твердят, что когда-нибудь он разобьется, но он только отмахивается…
* * *
13 мая 1935 года он отправляется с утра на одну из таких безумных прогулок и на повороте рядом со своим домом, пытаясь разъехаться с грузовиком, врезается в дерево.
Официальная версия гласит, что то была лишь обычная автокатастрофа, однако она странным образом совпадает по времени с внезапной смертью короля Фейсала во время пребывания того на отдыхе в Швейцарии. Расследование так ничего и не дало, но подозрения о преднамеренном характере инцидента остались. Лоуренс умер через несколько дней в больнице. А любители загадок до сих пор строят версии, не «позаботились» ли о его уходе из жизни некие спецслужбы: Аравиец раздражал слишком многих, и его смерть могла быть выгодна множеству сторон, начиная от арабов, борющихся за власть после смерти Фейсала, или немецких спецслужб, обеспокоенных работой Лоуренса над торпедными катерами, — и до палестинцев, недовольных своим положением после первой мировой войны, или английского правительства, изрядно уставшего от компрометирующего его одним фактом своего существования «руководителя арабского восстания».
На похоронах Лоуренса Черчилль назвал его «одним из величайших людей, живших в наше время». И с горечью признал, что, сколь бы Англия ни нуждалась в подобных ему, второго такого человека ей никогда не суждено увидеть. «Он будет жить в английской литературе, в истории войны… и в арабских легендах».
Странный человек, оказавшийся заложником своей эпохи, принесший жизнь в жертву чужому народу и личной идее долга, он оставил после себя книгу, которая, может быть, стала одним из лучших документов, свидетельствующих, чем же именно был ХХ век — столетие крови и жестокости, наивности и отчаянья…
автор: А. Нестеров